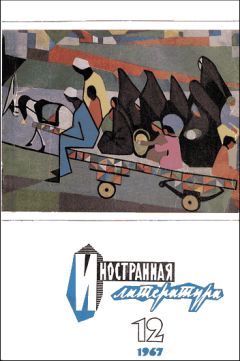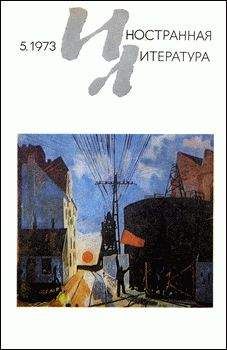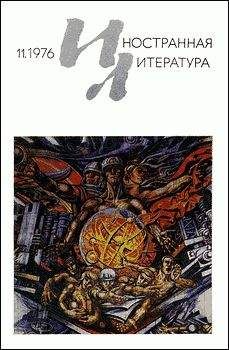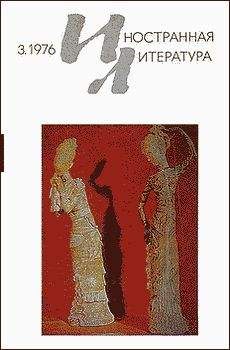Леонардо Шаша - Каждому свое • Американская тетушка
— Что значит это ваше «теперь»? — немедля отозвался полковник, весь подобравшись, словно пантера перед прыжком.
— Теперь уж вам... — повторил молодой Пекорилла и безнадежно махнул рукой.
Полковник рванулся вперед:
— К вашему сведению, молодой человек, я в мои семьдесят два года, если раз в день не...
— Полковник, я вас не узнаю! — сурово прервал его бухгалтер Пиранио. — При вашем престиже и звании!
Пиранио действительно был убежден, что полковник обязан вести себя солидно, с достоинством. Его упрек сразу возымел свое действие.
— Вы правы, — сказал полковник. — Совершенно правы. Но когда вас столь нагло провоцируют...
— А вы не обращайте внимания, — ответил Пиранио.
Эта сцена повторялась каждый вечер. И тому, кто хотел всласть насладиться яростью полковника, оставалось ждать, когда Пиранио не будет в клубе.
Едва полковник вновь уселся в кресло, на этот раз уже Пиранио вернулся к разговору о вдове Рошо:
— Не спорю, синьора Луиза молода и красива, но не забывайте, что у нее дочь, которой она, очевидно, захочет посвятить всю жизнь.
— Что значит посвятить жизнь дочери? — вмешался начальник почты. — Когда есть деньги, мой уважаемый друг, такой проблемы вообще не существует. Девочка прекрасно проживет на деньги, оставленные ей отцом. Достаточно поместить ее в хороший колледж — и все проблемы решены.
— Совершенно справедливо, — поддержал его дон Луиджи.
— Однако надо учитывать и другое обстоятельство, — возразил Пиранио. — Прежде чем жениться на вдове с ребенком, пусть даже она хорошо обеспечена, любой дважды подумает.
— Вы в этом уверены? Найдется ли среди присутствующих хоть один человек, исключая вас, который бы хоть на минуту засомневался? Жениться на такой женщине! Да любой, не раздумывая, ринулся бы на штурм! — воскликнул коммендаторе Церилло.
— Еще бы! — гаркнул полковник.
С этого момента почтение к синьоре Луизе резко пошло на убыль. Само собой разумеется, это относилось к ее телу, а не к ее редким и неоспоримым добродетелям. А вот ее обнаженное тело, и особенно грудь и ноги, подвергались столь детальному рассмотрению, да еще во всех ракурсах, что ему мог позавидовать даже фотограф-нудист Брандт. Неуважение к прекрасной вдове дошло до того, что полковник, словно новорожденный, приник к ее груди. Чтобы оторвать его, понадобился весь авторитет бухгалтера Пиранио и неоднократные напоминания о славном боевом прошлом полковника, которому не пристало вести себя так непристойно.
Лаурана сидел молча и, как всегда, с любопытством слушал обычный шумный спор о женщинах. Для него вечер в клубе был точно чтение книги Пиранделло или Бранкати, в зависимости от того, о чем и в каком тоне шел разговор. Но, честно говоря, чаще все это напоминало эротические страницы Бранкати. Поэтому он регулярно посещал клуб. После трудового дня это был приятный час отдыха.
Однако разговор о синьоре Рошо тяготил его, смущал и вообще вызывал самые противоречивые чувства. Он был возмущен и одновременно захвачен им. Не раз ему хотелось уйти или выразить свое негодование, но бесстыдство их суждений, смутная тревога, нечто похожее на ревность удерживали его. Когда закончилась эротическая интерлюдия, разговор возвратился к теме «претендентов на престол». В эту категорию, по мнению коммендаторе Церилло, входили холостяки от тридцати до сорока лет, представительные, мягкого нрава и, конечно, с дипломом в кармане, могущие с успехом претендовать на постель и богатства вдовы Рошо. Нашелся один, кто, скорее из любезности, чем по убеждению, назвал имя Лаураны, но тот, покраснев, словно ему сделали комплимент, робко запротестовал.
Спор разрешил дон Луиджи Корвайя.
— Что это вы так далеко ищете? — воскликнул он. — Когда синьора решит вновь выйти замуж, то муж у нее есть, можно сказать, под боком.
— Кого вы имеете в виду? — грозно вопросил полковник, готовый, казалось, обрушить громы и молнии на счастливого избранника.
— Кого? Да конечно ее кузена, нашего любезного друга Розелло. — Дон Луиджи никогда не забывал причислить к своим друзьям тех, на кого изливал всю свою желчь.
— Эту церковную мышь? — буркнул полковник и, желая выразить все свое презрение, плюнул, с обычной меткостью угодив в белую эмалированную плевательницу, стоявшую на расстоянии трех метров.
— Вот именно, — улыбнулся дон Луиджи в восторге от собственной прозорливости. — Вот именно.
Эта же мысль уже несколько дней подряд мучила Лаурану. Он пришел к выводу, что именно здесь кроется главная и единственно возможная причина убийства. А теперь дон Луиджи Корвайя из любви к сплетням и злословию пришел к тому же. Вот только тот факт, что Рошо пытался нанести удар тайком через депутата-коммуниста, не вписывался в картину преступления, вернее, оставался темным, загадочным пятном в самой картине. Тут могло быть две гипотезы: либо Рошо застал жену и ее кузена, как пишется в полицейских протоколах, на месте преступления, либо Рошо лишь подозревал, хотя и с известным основанием, об их любовной интриге. В первом случае поведение Рошо представлялось Лауране довольно-таки странным: он увидел все своими глазами, хладнокровно объявил любовнику жены, что намерен погубить его, затем повернулся и ушел. И вот, готовя свою месть, он продолжает поддерживать вполне вежливые отношения с человеком, которого ненавидит. Во втором случае трудно объяснить, каким образом Розелло удалось узнать о намерениях Рошо. Впрочем, тут вполне правдоподобна и третья гипотеза: Розелло всячески увивался за ни в чем не повинной синьорой Рошо, и она сказала об этом мужу или он сам догадался. Но тогда Рошо, твердо убежденный в верности жены, ограничился бы тем, что круто изменил либо вообще порвал отношения с Розелло. Его терпимость и снисходительность к человеческим слабостям не могли перед лицом несостоявшегося, а значит, и не такого уж страшного оскорбления мгновенно смениться злобой и жаждой мести. Следует, однако, учесть, что к депутату он отправился лишь для того, чтобы позондировать почву — узнать, готов ли тот поднять скандал в парламенте. Рошо еще не принял решения прибегнуть к мести и даже откровенно признался депутату, что сначала должен решить для себя, открыть ли ему все или нет, в зависимости от...
В зависимости от чего? Вероятно, от того, изменит ли Розелло после угрозы свое поведение или нет. Значит, прибегнув к открытой угрозе, Рошо поставил ему определенные условия? Тогда надо вернуться к первому предположению — обманутый, отчаянно влюбленный в свою жену муж хочет любой ценой удержать ее, однако ведет себя довольно странно, как герой киноэкрана или как великосветский сноб.
И хотя Лаурана сурово осуждал образ жизни, который определяется страстями, самолюбием и особенно ложными понятиями чести, он не мог не сознавать, что в этой гипотезе есть элемент неуважения к памяти Рошо. Поэтому он всячески стремился разбить эту гипотезу, опровергнуть ее. Но с какого боку к ней ни подступись, эта история таила в себе много двусмысленного и грязного, хотя Лауране еще многое было неясно: связь между причиной и следствием, механизм преступления и, наконец, взаимоотношения главных действующих лиц трагедии. И он чувствовал, что в плане моральном и эмоциональном он тоже как-то сопричастен к этой двусмысленной и темной истории.
Глава четырнадцатая
Если три довольно правдоподобные гипотезы и вероятный мотив убийства, проступивший сквозь пелену злословья, послужили бы достаточным основанием для обвинительного приговора, это лишь усилило бы в душе Лаураны инстинктивное отвращение и даже протест против системы судопроизводства и против самих принципов, какими оно руководствуется. Но три эти гипотезы, которые он беспрестанно сопоставлял и обдумывал, а также туманный мотив преступления, по его убеждению, не оставляли никаких сомнений в виновности Розелло. Прав был приходский священник, говоря, что Розелло кретин, не лишенный хитрости. Он с дьявольской хитростью подготовил убийство, прибегнув к далеко не новому в криминалистике способу. Однако Розелло упустил из виду, что газета, из которой он вырезал слова анонимного письма, — «Оссерваторе романо». Для него это была обычная газета, ибо он привык постоянно видеть ее дома и в своем кругу. Это его первая ошибка. Вторая заключается в том, что он медлил и дал Рошо время принять меры и поговорить с депутатом. Но, очевидно, этой ошибки избежать было невозможно — нельзя задумать убийство и тут же его осуществить. Третья ошибка: он появился в компании наемного убийцы, когда сигара «Бранка» фигурировала как главная улика в расследовании и о ней писали все газеты. Понятно, одно дело в глубине души быть уверенным в виновности человека, и совсем другое — безапелляционно обвинить его в преступлении или осудить. «Но, быть может, — думал Лаурана, — судья или полицейский судят о виновности подозреваемого по его поведению — словам, волнению, заминкам в ответах, растерянным или испуганным взглядам; все это, разумеется, очень трудно обнаружить в газетных отчетах». В конечном счете именно эти мелкие подробности убеждали Лаурану в виновности Розелло. Правда, бывают случаи, когда люди невиновные ведут себя, словно они совершили преступление, и это их губит. Почти всегда в присутствии муниципальной стражи, таможенников, карабинеров, судей итальянцы начинают вести себя так, точно они в чем-то виноваты. Но он, Лаурана, был от законов и от людей, облеченных правом вершить его, куда дальше, чем Марс от Земли. И все эти полицейские, судьи казались ему фантастически далекими существами, словно это были марсиане, внезапно обретавшие на земле плоть и кровь, когда раздавался крик человеческой боли или безумия. С того дня, как Лаурана спросил у Розелло, с кем это он стоял на лестнице Дворца правосудия, тот словно совсем потерял голову. Он старательно избегал Лаурану, а если не успевал вовремя свернуть в сторону или сделать вид, будто его не заметил, еле кивал. Но иной раз он буквально не давал ему проходу, распинался в своих добрых чувствах и выражал полнейшую готовность оказать ему услугу, используя свои связи в университетских и министерских кругах. Но поскольку Лаурану весьма смущали и даже раздражали эти проявления симпатии, он неизменно отвечал, что не нуждается в протекции своего служебного начальства, после чего Розелло становился мрачным и подозрительным. Возможно, он думал, что Лаурана отвергает эти проявления дружбы и не хочет воспользоваться его услугами из неприязни, которую питает честный человек к преступнику, или даже собирается поделиться своими подозрениями с полицейским комиссаром либо старшиной карабинеров — словом, непосредственно с одним из тех, кто причастен к расследованию. Между тем такого намерения у Лаураны не было и в помине. Собственно, его огорчало и беспокоило именно предположение, что Розелло приписывает ему подобные планы. Большую роль здесь играло даже не чувство страха, которое усиливалось при воспоминании о печальном конце аптекаря и Рошо и заставляло Лаурану невольно принимать меры предосторожности, чтобы избежать подобной же участи, а своего рода самолюбие. Оно-то и принуждало его решительно отвергать даже мысль о том, что он может стать орудием наказания преступников. Его любопытство было чисто абстрактного, интеллектуального свойства, и его не следовало смешивать с любопытством людей, которым государство платило жалованье, чтобы они помогали поймать и передать в руки неумолимого закона преступников, этот закон нарушавших либо презиравших. Это смутное чувство самолюбия подкреплялось воспоминаниями о бесславной и заранее проигранной битве, которую вел долгие годы угнетенный народ с законом и его исполнителями. В душе Лаураны жило давнее убеждение, что лучший закон и лучшее правосудие, если только вы не желаете довериться судьбе или уповать на возмездие небес, — это выстрел из двустволки. В то же время Лаурана испытывал гнетущее чувство невольного сообщничества и даже подспудной солидарности с Розелло и его прислужником-убийцей. Эти чувства, несмотря на возмущение и отвращение к двум преступникам, побуждали его оставить их безнаказанными. Лаурана даже не возражал, чтобы к ним вернулось то спокойствие, которое они наверняка утратили в последнее время благодаря его любопытству. Да, но разве можно допустить, чтобы Розелло безнаказанно занял место несчастного Рошо в сердце женщины, которая маняще-бесстыдно стояла у Лаураны перед глазами как бы в самом центре этого запутанного лабиринта страстей и смерти? Впрочем, тут его влечение и вожделение тоже носили двойственный характер: с одной стороны, беспричинная, неоправданная ревность, которую питали неудовлетворенность, робость, всевозможные самоограничения, отравлявшие его жизнь, с другой — горькая радость, мысленное удовлетворение желаний, своеобразная форма самогипноза.